Миша Мазель
РУБИК КУБИКА
(рассказ)
Послушать рассказ в моём исполнении:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
(картинки — скриншоты с сайта Яндекс-Карты)
В любом рассказе должна быть изюминка, иначе он будет не рассказом вообще, а так… воспоминанием, историей, текстом… Ох, как Мишка не любил это слово — «тексты». Не «текст», а «тексты». Особенно когда хорошие поэты, выступая, говорили: «Я сейчас почитаю вам немного новых текстов. Парочку старых, а так — все тексты будут новыми». И ведь у них-то (у хороших поэтов) как раз не тексты, а стихи или рассказы в стихах… или… короче, с изюмом у них всё в порядке.
Мишка посмотрел на монитор. Справа внизу моргало далеко заполуночное число. Мишка потёр уставшие глаза и направился на кухню. С минуту помедлив, он открыл дверцу стенного шкафа над мойкой, в которой грустила гора невымытой посуды и, не раздумывая, стянул пакетик с изюмом. Отсыпав горсточку и обдав её струей горячей воды, слегка отжав, но всё равно капая на пол, Мишка вернулся ко времени, которое не уменьшилось за эти несколько минут. Хотя к утру приблизилось. Хотя….
Мишке только что было сорок пять лет, и, вдруг,.. он чётко осознал, что ему ровно на сорок лет меньше. Именно в пятилетнем возрасте он впервые увидел Лёшу. Дядю Лёшу, конечно, но все звали его Лёшей, и он пытался его звать Лёшей, но это было потом… Тогда он по именам вообще не умел обращаться, да и что такое обращаться, не знал.
Мишка (опять ненадолго сорокапятилетний) задумался. Он пытался понять, а с чего, собственно, ему взбрела в голову идея написать про Лёшу. Он и лица его вспомнить не мог. Все попытки создания виртуального (внутрисознательного) фоторобота поднимали почему-то лицо героя Михаила Ульянова из фильма «Ворошиловский стрелок». Хотя Мишка пытался вспомнить Лёшино лицо ещё задолго до того, как посмотрел фильм Говорухина, и даже до того, как вдруг понял, что должен написать о нём рассказ… Не о Говорухине и не об Ульянове – о Лёше. Рассказ. Ну или воспоминание, на худой конец, если изюма не хватит. Нет – однозначно, что-то общее у Леши с Михаилом Ульяновым было. Кепка и кожаная куртка, каким странным это бы не казалось. А ещё у Михаила Ульянова с возрастом один глаз всё сильнее как бы «прищуривался», а у Лёши бельмо на глазу было. Вот! Точно! У Лёши было бельмо на глазу. Вот тебе и изюм, хотя знатоки прозосложения, говоря об изюме, немного другой изюм имеют ввиду. И пусть имеют. Мишка их тоже имел ввиду, хотя ему хотелось написать именно рассказ. Не о Лёше, так о детстве или даже о времени… Том времени, что ещё сильнее приблизившись к утру, снова пыталось перебросить Мишку на сорок лет назад. И перебросило, и Мишка вспомнил чётко эту куртку. Кожаную, серо-зеленую. Плотную такую, гладкую, потертую… Видавшую виды и очень идущую Лёше. Хотя, что такое «идти» Мишка, ставший пятилетним опять не знал. Но он знал, что его любимая бабушка Лёшу почему-то боится, и едва завидев его, пятится на обочину тротуара и пытается улизнуть куда угодно, притягивая Мишку за руку к себе.
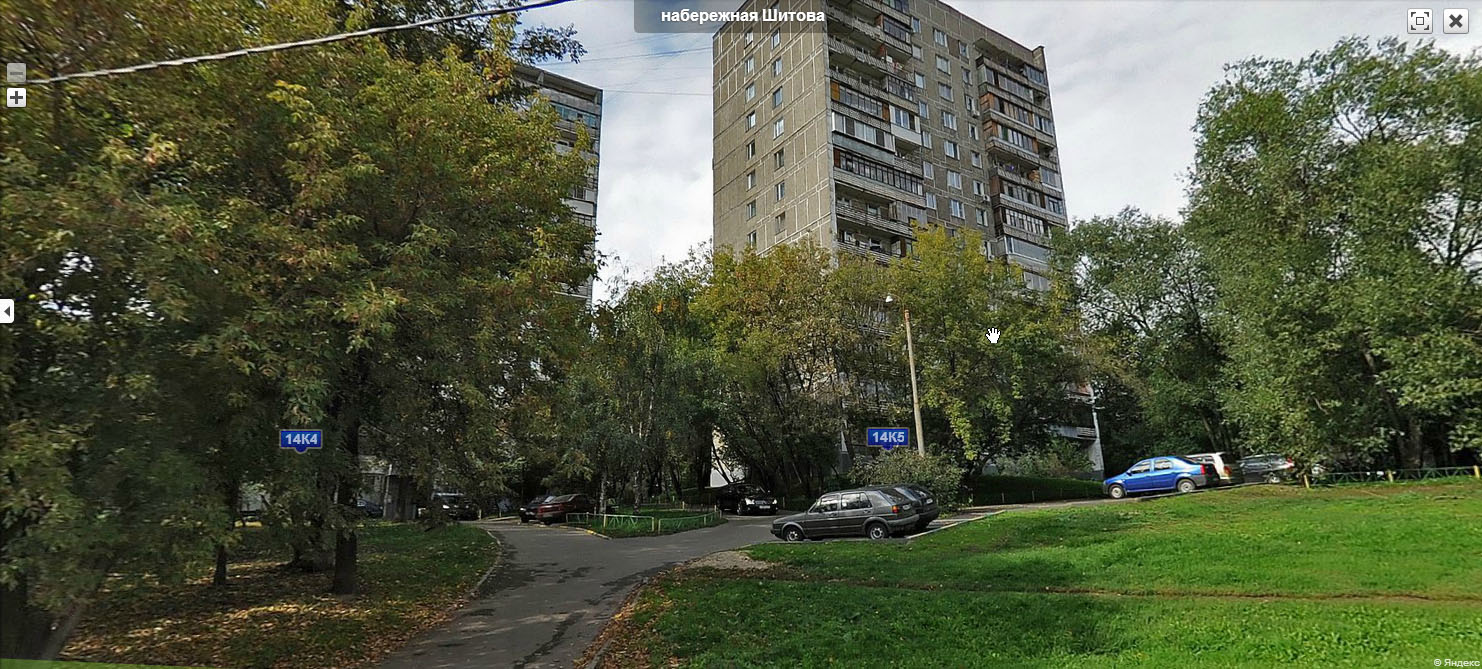
Нет!.. Ох уж это время. Надо однозначно идти спать… За одну ночь рассказ всё равно не осилить, но прежде чем… Откуда? С чего… «Трах тибедох!» После стольких лет в Америке у Мишки возникла эта мысль выцарапать из загогулинок кувшина памяти образ Лёши Бу…. Фамилию точно уже не восстановить, и спросить не у кого. Друзья-сверстники такой ерундой, как фамилии странных соседей, не заморачивались. Им забот хватает, а Мишка как-никак считал себя поэтом-писателем и такие заморочки были его прямой обязанностью, или призванием, если хотите… То есть наоборот. Призванием, или обязанностью – если хотите. Так. Да и фамилию он уже вспомнил, но решил не писать. Никому она не нужна: фамилия Лёши. Он и тогда для всех был просто Лёша. Пусть и в рассказе (с изюмом, без изюма) — именно рассказе, а не воспоминаниях — он будет Лёша.
А имен новых соседей тут, в Америке, Мишка в большинстве своём просто не знал, хотя мог прочитать все на почтовых ящиках в лобби. И читал – но проассоциировать с лицами мог крайне редко. Вот и имени этого престранного дядечки, что много лет стоял и улыбался в фойе или на улице, Мишка не знал и поэтому не смог спросить у секюрити, куда тот исчез. Исчез. Люди часто исчезают. Переезжают или совсем исчезают туда, куда исчез Лёша много лет назад… Лёша, кстати, тоже улыбался. Почти всегда. То есть нет… Он не улыбался всегда. Но всегда улыбался при встрече. По крайней мере до того, как с ним случился первый…
Ах, вот оно что. Улыбался. Да-да. Улыбался и маячил у подъезда. Конечно. Лёша, после работы (есть сомнения — работал ли он, но когда Мишке было пять лет, скорее всего, работал) всегда ошивался во дворе. И улыбался при встрече. А те, кто жил в Москве в семидесятые, должен помнить, что в московских дворах по вечерам после работы всегда было если не полдома, то много разных его жителей, начиная с детей и заканчивая бабушками и пьяницами.
Но Лёша не был пьяницей. Однозначно. Мишка, задумавшись и посоветовавшись с пятилетним Мишкой, (или пятилетний с сорокапятилетним) – он уже не владел временем и не знал какой он сейчас – однозначно (убежденно) кивнув, произнёс вслух «Лёша не был пьяницей».
Но странного соседа было мало.
Полистав закладки Фаерфокса, Мишка открыл одну и понял, что смутные желания написать… написать то, что напишется, окончательно созрели, когда он наскочил на рассказ-воспоминание незнакомого человека о друге своей мамы. Друге мамы, который был ему как отец.
Лёша не был Мишке как отец, он ему был сосед. Просто — Лёша. Но, смахивая слезинку (написанное незнакомцем было пронзительным и до воя грустным), Мишка решился написать про Лёшу, несмотря на то, что незнакомца половина читателей ругала за то, что он не добавил к правде воспоминаний — вымысла, дабы рассказ стал рассказом.
2
Часы справа внизу показывали далеко за полночь… Нет, время не двинулось вспять, время ушло ещё дальше вперёд, на несколько дней и ночей. На несколько заполночей и сорокапятилетний Мишка стал чуть более сорокапятилетним, а вот пятилетний Мишка… На самом деле за эти несколько маршбросков Мишек стало не два, а может, и не три. Там мелькали и семилетний, и десятилетний… И, может быть, и ещё один — чуточку постарше. И вот скорее всего этот, который чуточку постарше, вдруг понял, что когда некоторые соседи вполшёпота говорят слово «душевнобольной», они имеют в виду Лёшу. А ведь Мишка уже знал, что такое душевнобольной. То есть он читал об этом в книжках. И задавался вопросом: в чём разница между душевнобольным, умственно отсталым, неполноценным и психом. «Псих» в том же доме, что Лёша и Мишка — жил. Так называли мальчишку лет на пять постарше. Мишка тогда не понимал, что в данном случае это было прозвище, но понял – может, и благодаря попыткам уразуметь, что же с дядей Лёшей не так, и почему его боится бабушка, особенно когда тот схватит Мишку (пятилетнего), подбросит, поймает и, крепко держа за руки, раскрутит, как … Ну в лётчика играет… Мишке было страшно. Особенно когда он видел испуганное бабушкино лицо. Но при этом он, как ни странно, ждал, чтобы ему было страшно. Вот такой вот парадокс. Страшно, но ждал. А покрутив Мишку, дядя Лёша вразвалочку так, неуклюже, как медвежонок, или ковбой, слезший с лошади, или как пьяненький герой Юрского из кинофильма «Любовь и голуби» — бежал за следующим соседским ребёнком, чтобы под крики бабушек или мам поиграть и с ним в самолётики… А ведь именно из-за этакой разляпистой походки про Лёшу-то и думали, что он пьяница. А пьяницы-то на самом деле совсем по-другому ходили, уж это Мишка знал. В его доме жило много пьяниц. Да, пьют в России. На 14-этажный стоквартирный дом их было с десяток, если не больше. И все на удивление тихие. И Мишку любили. Так же, как его любил и дядя Лёша. Не о Мишке речь, но и весь сыр-бор не начался бы, не пойми Мишка, что его-таки любили соседские пьяницы.
Я был любимцем всех соседских пьяниц
за то, что слушал (просто), и… не пил.
Я видел упреждающий румянец,
но не отказывал и впрок сил не копил.
Да, слушал, подмечая, что ни разу
за много лет не сбился ни один…
в своих исповедальных пересказах
реальных и придуманных картин.
А ведь Лёша тоже очень много рассказывал Мишке. Рассказывал о своём военном детстве. О том, как работал с утра до ночи на заводе. Как заболел…
О том, как дети работали на заводе, Мишка читал. Читал в книжке Льва Кассиля «Синегория». То есть книжка называлась «Дорогие мои мальчишки», а Синегорией называлась сказочная страна из этой книжки. Мишке она запомнилась. Много лет спустя он после колебаний и сомнений (удобно ли это) назвал так свой сервер. Но Мишка сорокапятилетний шикнул на себя, и все Мишки, уже появившиеся, и еще не появившиеся (15-ти, 20-ти и 25-тилетние…) виртуально (внутрисознательно) присоединившись, шикнули вслед. Сервер тут совершенно не причём. Ни Лёша, ни те Мишки дошкольники, школьники и студенты ещё не знали слова сервер, и нечего его приплетать в воспоминания, которые легли в основу рассказа.
Лёша заболел… Душевно заболел? Мишка (все Мишки) под присягой бы не сказали, что Лёша был болен. Да — он был более чем странен. Да, он, конечно, был малость (многость — ?) не в себе, но… А заболел он тогда – эпилепсией. Это слово Мишка услышал от папы, когда бабушка делилась с Мишкиным папой своими опасениями, что Лёша крутит Мишку, и о том, что говорят про Лёшу соседи. Вот тогда папа и сказал бабушке: «Рива Бенедиктовна, Лёша безобиден. Он не псих, он — эпилептик».
Чуть подрастя, Мишка прочитал в энциклопедии про эпилепсию и с тех пор боялся, что Лёша упадет и начнет биться в судорогах, и у него пойдёт ртом пена, и он откусит себе язык. Мишка думал, а что если… И как… тогда он ему между зубов будет всовывать нож, и подойдёт ли его перочинный? Спрашивал себя и понимал, что его перочинный навряд ли подойдёт… Но на счастье, на глазах у Мишки приступов у Лёши не случалось.
Нет – всё же сходство с Михаилом Ульяновым у Лёши было. И не столько с Ульяновым в роли Ивана Фёдоровича, сколько с Ульяновым в роли Тевье… Нет-нет, ни Ульянов ни Лёша не имели никакого отношения к евреям, просто кепка, куртка (пусть у Тевье и не кожаная, и не куртка, а пиджак) и что самое главное – возраст… Мишка помнил Лёшу сильно моложе, чем был уже дважды упомянутый герой фильма.
А тем временем Мишка становился старше, и однажды он вдруг заметил, что Лёша стал разговаривать с ним на «Вы». Это было очень необычно и непривычно. Но все уговоры не называть его на «Вы» натыкались на Лёшино упрямство. Вот так. Мишка, пока его не отругала мама, называл дядю Лёшу, потому что его все так в доме зовут – Лёшей, а Лёша обращался Мишке на «Вы», потому что Мишка из хорошей семьи, хорошо учится, и вообще — так надо. Не помогало даже признание, что у Мишки нередко и тройки бывают. Лёша говорил, что знает, что делает.
Он уже не бежал навстречу к Мишке своей смешной походкой, да и вообще не бегал, скорее всего у него уже случился приступ, приведший потом к инсульту, потом явно был повторный… Ни один из всех Мишек так и не смог вспомнить, что одна рука у Лёши почти не работает, хотя ходил он не прихрамывая. Тот инсульт, что уложил Лёшу в постель, случился много позже, Мишка этого уже не застал, вернее он сам тогда болел и не мог навестить Лёшу. Может это и к лучшему, и в рассказе об этом чудаке (чудаке ли) не будет очень грустных ноток, хотя, что там смягчать интонации, грустно всё это… Но при этом как-то светло, как Лёшина улыбка.
3
Вот же странно: лица не вспомнить в деталях, а человек помнится.
Забываются лица соседей,
а тем более их имена,
а мы едем, всё дальше мы едем
и с собою берём времена.
Мы их носим в блокнотах под сердцем.
Мы храним их в словах и делах.
В иероглифах септим и терций.
В состязании света и зла.
Руки… Руки у Лёши были большие. Пальцы на вид тяжелые, мозолистые, рабочие, но при этом чувствовалось тепло… Но Мишка этого не мог вспомнить. Он это придумал. Но это дозволительная придумка. Лёша держал руки всегда чуть присогнутыми в локтях, и пальцы рук всегда были чуть присогнуты, так, как будто Лёша только что принёс огромный арбуз или мяч.
Кстати, мячи Лёша 10-15-летнему Мишке и его сверстникам всегда подбрасывал. Неумело и мимо кассы, когда они – мячи -улетали в сторону пруда, во время игр. Лёша, опережая детей, бежал по газону, к Шитовой набережной, и пинал или нес в руках мяч, под смех непонимающих своей недоброты детей. Но Мишка не смеялся, даже за компанию. Он боялся (от бабушки всё же передалось), но любил Лёшу и не любил, когда его называли душевнобольнвм или психом. А тем более пьяницей. С пьяницами у Мишки было отдельное общение, так что будь дядя Лёша пьяницей, Мишка бы с ним общался точно так же.
В нашем дворе раньше жил дядя Коля.
Колю никто никогда не неволил
быть вечно трезвым…
И Коля им не был.
В лёгком подпитии глядя на небо
нам, детворе, он всегда улыбался,
и постепенно тихо спивался.
Нам это не было, правда, заметно.
Так проходили лето за летом,
осени, зимы и вёсны, конечно.
Коля, как Брежнев, казался нам вечным:
в том же потрёпанном сером жакете
и чуть проеденном молью берете.
То он подбросит пропущенный мячик.
То вдруг с букетом дурным замаячит
рядом с сидящими в вечных косынках
бусями…
«Помните, сынки
бабушек ваших»
Мы вроде их помним.
Время.
Давно тем двором мы не ходим.
Страны другие, в которых нет пьяных.
Даже бомжи ходят в куртках не рваных.
Нету подъездов (и бабушек нету),
как на вопросы разумных ответов.
Пьяница дядя Коля у нас в доме жил… это факт, но мячи не подбрасывал… Но мы ведь договорились – что Мишка пишет рассказ, а не воспоминания, а если что… Нет тут никаких что.
А ведь про цветы, вернее, ветки сирени — сущая правда. Лёша частенько по весне разносил всем бабулям, в том числе и Мишкиным двум, огромные охапки сирени, а днями после Мишка слышал, как соседские бабушки (у предыдущей со стороны метро высотки в паре сотен метров) жалуются, что поганые мальчишки всю сирень обломали. Мишка ни словом, ни видом не выдавал, что знает, чьих это рук дело.
Опять о руках. Как-то (много позже описанных событий) Мишка (уже студент) заметил, что одну руку Лёша как бы подволакивает и пальцы на ней полусогнуты и не шевелятся. Вот же…
Именно тогда Лёша каждую беседу заканчивал одной и той же мизансценой… «А умеете ли Вы…» Без имени (он никогда не называл ни Мишку, ни кого-то еще по имени, может, забывал) но всегда на «Вы»… «А умеете ли Вы собирать Кубик Рубика? Мне бы очень хотелось иметь Кубик Рубика…»
Мишка сгорал от стыда. Ему жалко было денег пойти и купить Лёше Кубик Рубика. У Мишки был такой кубик, привезенный мамой из Америки, в те годы, когда в России этих кубиков и в помине не было. Отдавать Кубик было жалко, да и для мамы, попавшей в Америку совершенно случайно, этот кубик был памятным сувениром.
Но в то время, когда происходили эти регулярно повторяющиеся мизансцены, эти кубики уже продавались повсюду, в том числе и в «Галантерее» в 10-ти минутах медленной ходьбы от Мишкиного и Лёшиного дома.
Наконец, Мишка не выдержал и, отдавая очередную стипендию родителям, заикнулся, что хочет сделать Лёше подарок. (Смейтесь, смейтесь – да – Мишка отдавал стипендию родителям, а потом просил обратно. По чуть-чуть, которое зачастую превышало отданную сумму.)
Родители одобрили благородный жест, и Мишка принёс Лёше кубик. Тогда он в первый и последней раз побывал в однокомнатной Лёшиной квартирке, точно такой же, как у Мишкиной бабушки… Но обстановка не запомнилась. Скорее всего, она была бедной. Она не могла быть иной… Воображение… Мишка сказал себе и своему воображению «Чур»… Не помнит и не помнит…
Лёша не поверил своим глазам и пообещал вернуть, как только соберёт. Сердце двадцатилетнего Мишки сжалось от боли, он понимал, что Лёша никогда его не соберет, и не только потому, что одна рука у него почти не работала, а и потому, что, как ни хотел Мишка не считать Лёшу душевнобольным, Лёша был сильно нездоровым человеком, и никуда от этой реальности не деться. И кубик он Мишке вернул довольно быстро…
4
… И снова часы на компьютере показывали очередную заполночь. И снова пять или шесть Мишек, нахмурив лбы и сведя брови, вспоминали, казалось, полностью забытые детали и, вдруг, находили в далёких семидесятых Лёшиного брата из деревни, вечно хмурого, в отличии от Лёши, регулярно навещающего Лёшу… Лёшу ли? Кажется тогда, сорок лет назад, у Лёши жива была мама – но это уже невосстановимый призрак. Он возник, скорее всего, из осознания, что брату Лёша был обузой и он навещал мать. Но ни один из Мишек не вправе оговаривать незнакомого человека. Возможно, он, наоборот, всю жизнь тянул на себе брата. Тянул, пока не умер. А он — умер. И Лёша сам сказал об этом Мишке, которому тогда было от пятнадцати до двадцати, а Мишка, кроме смерти дедушки, ещё толком не понимая, что это, не знал, как на такое сообщение реагировать, и громко вздыхал, и шваркал носком кеда по асфальту, следя опущенными глазами за собственными манипуляциями…
Вот, собственно, и всё… Так он и стоит у подъезда, перетаптываясь с ноги на ногу… Лёша… Душевнобольной эпилептик. Ветеран труда, возможно, награждённый орденами «За доблестный труд во время войны» и юбилейными медалями к сорокалетию победы… Лёша – страх бабушек и дядя-самолёт для детей со всей округи… Лёша расхититель сирени… Лёша, так и не решивший Кубик Рубика….
Когда Мишка угодил в больницу, у Лёши случился очередной инсульт. Он слёг. Ему помогал сосед по лестничной клетке, а точнее, по коридору холла. Когда Мишка вернулся домой, то сосед (все они прожили на тот момент в доме по двадцать пять лет и знали друг друга) жаловался, какая Лёша неблагодарная скотина. Сосед его моет, убирает за ним и покупает продукты, а Лёша сказал, что сосед украл у него три рубля. Как ни пытался Мишка уговорить соседа, что Лёша очень больной человек, сосед чертыхался и божился, что бросит этого неблагодарного на произвол судьбы… Мишке хотелось плакать…. от бессилия помочь самому и от того, что время сделало и с Лёшей и с соседом, не понимающим таких простых вещей… А на полке Мишкиной комнаты стоял Кубик Рубика и усиливал нестерпимое желание заплакать, но Мишка не заплакал. Сосед ушёл, а вскорости двадцатипятилетний Мишка с семьёй навсегда улетел в Америку…
В каком году не стало Лёши? Как он просуществовал последние годы?… Хотя связь с домом у Мишки сохранилась, вернее, связь с друзьями детства, уточнять в деталях, как стареют и уходят из жизни соседи из дома, у него не было душевных сил….
Что же волнует нас, взрослых и умных?
Прошлым набитые тёмные трюмы?
Судьбы соседей, чьи лица забыты?
Выводов чётких — явный избыток.
Много на свете грусти и боли.
Кто из нас вспомнит теперь дядю Колю…
Кем был он раньше?
Когда точно сгинул?
Снова ловлю мяч, который он кинул.
…. Сорокапятилетний Мишка остался один. На столе, рядом с клавиатурой, лежала одинокая изюминка. Мишка не стал её есть, как и не стал пытаться определить жанр только что законченного текста. (Да-да текста, поскольку есть такое слово «текст», и когда оно употребляется по назначению, никаких возражений против него у Мишки быть не может).
Пришло время возвращаться в Нью-Йорк, а на душе оставался маленький осадок – Мишка не мог вспомнить ни одного разговора с Лёшей, а их было превеликое множество, как и бесед с соседскими пьяницами, очень любивших Мишку за… И Лёша любил Мишку за… За то, что он с ними разговаривал и… Да какое это имеет значение… Как и пьяницы, Лёша хвалил Мишку за то, что он был хорошим мальчиком, вспоминал военное детство, спрашивал как поживают бабушки… А Мишка опускал глаза, чтобы не пялится на бельмо, чтобы не изучать большие руки с полусогнутыми, как от переноса огромного арбуза пальцами, просто потому что разговаривать с душевнобольными людьми трудно и многоопытным взрослым, а ребенку ещё труднее…

Если вдруг Вам всё же покажется, что «Кубик-Рубика» не рассказ, то не говорите этого Мишке вслух; поверните пару граней, а когда оттрещит, шепните себе: «ОК». ОК. Не рассказ так эссе. Эссе про Рубик Кубика… Неразрешимое, как наше сложное время. Неразрешимое как сломанные и не сломанные судьбы. Как лица соседей, которые ушли в далекое прошлое, но остались их образы. И мы несем эти образы в себе, и люди живы, и ходят каждый своей неповторимой, пускай и странной походкой. А где-то нормальные дяденьки подбрасывают соседских детишек вверх, а бабушки детишек — боятся, потому что время сейчас такое, когда приходится бояться даже нормальных соседей, и чем нормальнее, тем больше оснований бояться. Но Лёша об этом, слава богу, не узнает. А кубик Рубика стоит на полке моей квартиры, которая осталась в моей памяти, как и Лёша, портрет которого я не нарисую, но храню, с благодарностью, за то, что у меня был шанс научиться человечности, а это, согласитесь – дорогого стоит.
Ночь над моими стихами ложится.
Совести хватит мне вам не божиться,
что если б смог я в то время причалиться,
я бы помог дяде Коле…
Случается.
Странно.
Зачем я тогда эти вирши.
вам показал?
Дождь ударил по крышам
и ручейками бежит по бетону.
Память.
Мы все в своём роде бездомны.
Джерси Сити.
Ночь с 5 на 6-е августа 2013 года.
* В рассказе использованы фрагменты
моих же старых стихотворений


